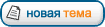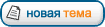|
Можно спорить, можно тонуть в собственной пене у собственного рта: «Камо грядеши, Одесса?». И все равно однажды понять: никуда она не идет, а живет как жила, и мало что меняется в ней. Даже одесские бандиты не меняются — распальцовка другая, а братва все та же.
Зато и историю писать легко. И в 1904-м, и в 2004-м историческое исследование может открывать фраза: «На юге страны живет население, которое составляют веселые, жизнерадостные и немного нахальные люди. Людей этих зовут одесситами, и проживают они в солнечной, южной и до сих пор грязной Одессе». И это при том, что в Одессе всегда было много зелени. Не с портретами американских президентов (той, слава богу, было очень много), а зелени садов, покрытой жемчужной пыльцой, пахнущей степью и морем.
Конечно, что-то стало другим. Но люди, наше достояние, — нет! Зайдите в одесский трамвай, этот центр культурной и общественной жизни, — прямо здесь знакомятся, женятся, защищают диссертации и устраиваются на работу. И все это делают через одного человека — дядю Борю. Он ездит целый день в трамваях и знает свое дело. О, дядя Боря! Может быть, он единственный в Одессе, кто не боится ни милиции, ни бандитов, ни даже налоговой инспекции, так удачно объединившей первых и вторых. Он боится одного человека — контролера. Потому что надо знать дядю Борю — в трамваях он ездит исключительно без билета. Из принципа.
Одесса — благодатная по американским меркам земля. Почему «по американским»? А на чем, скажите, держится их культура? Дэвик Коткин, сын еврея-галантерейщика. Он еще в Одессе умудрялся откалывать фокусы!.. А сегодня он Дэвид Копперфильд, у которого куда-то исчезла даже статуя Свободы. А кем был Керк Дуглас до того, как сыграл в ихнем Голливуде Спартака? Иссуром Даниловичем Демским, сыном мусорщика, причем даже не из самой Одессы, а так — из-под. Боже упаси, никто не хочет сказать, что у них в Америке такая культура. Совсем наоборот — это у нас в Одессе такие мусорщики и галантерейщики.
Я уже молчу про одесских музыкантов — эта планка вообще непреодолима. И не толкайте меня в бок локтем: «Столярский! Столярский!» Что, Столярский?! Он же только показал им, за какой конец держать смычок, а вскормила их мамка Бельканто и вспоил папка Мусоргский. И кто этого не понимает, пусть лучше обходит филармонию за три квартала, чтобы его не брали на «тю» второй октавы.
В Одессе даже высотные дома специфические. Вы не смотрите, что они пятиэтажные. Зато ни в одном из них вода не поднимается на пятый этаж. Американский стоэтажный Эмпайр Стейт Билдинг может таким похвастаться?!
Вы знаете, что сближает одесситов? Нет, не тонкие чувства, а тонкие стены домов. Когда знаешь, чем дышит сосед, живется намного спокойней. Вот за стеной слева одесситка страстно просит мужа: «Семен, переверни меня!». Причем, такой экстаз каждую ночь! «Семен, ну, переверни же меня!» Что вы хотите, после ужина ей самой перевернуться уже не под силу.
А справа вообще кошмар, потому что там по ночам на кухне все семейство Пердиченко, этих Квотермейнов нашего подъезда, охотится на тараканов. Тактика сводится к тому, чтобы внезапно зажечь на кухне свет, а стратегия — сразу с кутузовской стремительностью ввязаться в великую битву народов, только не под Ляйпцигом, а под отливом.
И все-таки эта Одесса как-то незаметно уходит. Или уезжает. А замены неравнозначны. Вы поменяете старый «Зингер» на пластмассовый «Веритас»? Вот и люди уже какие-то другие. Когда-то все было проще, может быть, интеллигентней. Когда-то… Как объяснить дочери это «когда-то»? Наверное, когда деревья были большими, а цены маленькими. И фасад больницы на Пастера еще украшали две скульптуры Гиппократа — Гиппократ до лечения и после. Скульптуры были до боли одинаковые — на обеих он был без носа.
Когда-то… Может быть, это только кажется, что все было иначе? Просто все припорошила жемчужная пыльца памяти, тоже пахнущая степью и морем. Потому что было лето, скрипучее, как пляжный топчан, на котором, когда ниспадала ночь, мы лежали, взирая на звезды, в ожидании любви прямо здесь, прямо на топчане. И музыка стекала по склонам из клубящихся в вышине санаториев. А ресторан «Шаланда» прямо на пляже мигал как маяк. В нем сливались воедино запах жареной камбалы и фокстротные «Ландыши», под которые, чуть приплясывая, разносил камбалу, тоже чуть приплясывающую, невероятно наглый официант в черной бабочке, но без носков, ибо какие могут быть носки на одесском песке.
А скамейки в округе пахли простоквашей, особенно перед семейными купальнями на 10-й станции Большого Фонтана, потому что под ними были аккуратно сложены бумажные стаканчики. Из них погруженные в думы старички с европейской внешностью и еврейской грустью извлекали целительный «кефер» прикованными к запястью ложечками а ля Паниковский. Это был особый тип ложечек — спертый. На ложечки не раз покушался всяк кому не лень, но эти Михаилы Самуэлевичи Япончики сами некогда сперли то фраже и больше на такие мансы не велись.
А возле Городского театра сидел меняла с арапской смуглостью и кавказской наглостью. Он менял валюту любой страны мира с точностью, какая еще не скоро станет доступной железу Билла Гейтса. И главное, весь этот exchange, или попросту гешефт, он делал не по лицензии банка, а по зову сердца. Мало кто знал, почему его «верное дело» раскинулось у самого порога городской оперы. Но это было предопределено роком — меняла был меломан. Ровно в семь вечера он закрывал лавочку, покупал билет в ложу и там обливался слезами о судьбе несчастной Травиаты. В каком еще театре мира сидит человек, набитый фунтами и долларами, и обливается слезами, прижимая руки к груди… на всякий случай — как-никак там же валюта?
Да, когда-то все было по-другому. Не поверите — даже женщины. В Одессе они были как фигурное литье оград — такие же фигуристые и, как одесские ограды, такие же неприступные. Их литые, чуть гнутые ножки, вытянутые поперек аллей Александровского парка, перекрывали пути к отступлению и указывали путь, которым так хотелось пройти до конца (боже, какая двусмысленность!). И долго в ушах висела фраза, пущенная по аллее в спину лучшей и ближайшей подруге: «Она думает, что у нее ФИгура, а у нее ФЕгура. Посмотрим через пару лет, что будет у нее — ФИ или ФЕ».
Та Одесса уходит в прошлое, но как-то нехотя, и с полпути все время оглядывается. Может быть, поэтому одесситы полны философской грусти. Когда к 200-летию Одессы открывали памятник основателю города Дерибасу, на постаменте чуть не написали: «Если бы он не умер так рано, сегодня ему исполнилось бы 245 лет, и он был с нами».
Я не Герцен, но знаю «Кто виноват?» во всем этом. Одесский воздух. Его, воздух Одессы, можно просто экспортировать, что многие и делают. Это из Винницы или Черновиц те, кто едет в Америку, берут с собой горстку земли. А одессит на трапе самолета просто вздыхает полной грудью… своей жены, а в Нью-Йорке говорит: «Ива, можешь уже выдохнуть воздух родины — теперь она здесь. Хотя сердце все-таки там».
О, этот город — то ли провинция, то ли столица — раскинувшийся на берегу моря, названного эвксинским, т.е. гостеприимным, такой же открытый и тоже гостеприимный, не поддающийся клонированию и давно уже застолбивший лучшие места по всему миру. Город, над которым, как мухи, роятся ангелы.
(с) хз
_________________
Потерпите меня еще немного...
|